
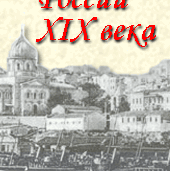
А. И. Герцен о «Философическом письме» П. Я. Чаадаева
«...«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь,- весть об утре или о том, что его не будет,- все равно надобно было проснуться.
Что, кажется, значит два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними - десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай, Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала - но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно - да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое lasciate ogni speranza... (Оставьте всякую надежду (итал.))
Долго оторванная от народа часть России прострадала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было что-то на сердце, и все-таки все молчали; наконец пришел человек, который по-своему сказал что. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. «Письмо» Чаадаева - безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?
Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это «пробел разумения, грозный урок, данный народам,- до чего отчуждение и рабство могут довести». Это было показание и обвинение; знать вперед, чем примириться,- не дело раскаяния, не дело протеста, или сознание в вине - шутка, и искупление - неискренно. '
Но оно и не прошло так: на минуту все, даже сонные и забитые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человек десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства, накликали их. Немецкого происхождения русский патриот Вигель (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина) пустил дело в ход.
Обозрение было тотчас запрещено; Болдырев, старик ректор Московского университета и ценсор, был отставлен, Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить сумасшедшим и обязать подпиской ничего не писать. Всякую субботу приезжал к нему доктор и полицмейстер, они свидетельствовали его и делали донесение, т. е. выдавали за своей подписью пятьдесять два фальшивых свидетельства, по высочайшему повелению,- умно и нравственно. Наказанные, разумеется были они; Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости в самом деле поврежденного своеволья власти. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали.
А И Герцен. Былое и думы.- Собрание сочинений в 30 томах, т. IX. М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 139-141.
|
ПОИСК:
|
© XIX-VEK.RU 2007-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://xix-vek.ru/ 'История России XIX века - письменные, статистические и графические источники'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://xix-vek.ru/ 'История России XIX века - письменные, статистические и графические источники'