
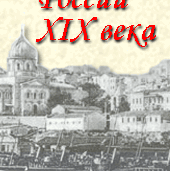
Премьера оперы «Евгений Онегин»
Сейчас пойдет занавес. В напряженной тишине - движение, шорох осторожных шагов. Привыкшие уже к темноте глаза Кашкина различают знакомую фигуру. Он! Не в силах сдержать радостного волнения, Кашкин хватает Чайковского за руку, притягивает к себе, крепко целует и шепчет:
- Наконец-то!
Кругом оборачиваются. Кое-кто узнает композитора. Перешептываются.
- Тсс!
Проходит оркестровое вступление. Вот и занавес пошел...
В сцене письма, когда... прозвучала тема любви Татьяны, Кашкин невольно сжал руку сидящего рядом Чайковского. Ему ответил прерывистый шепот:
- Николай Дмитриевич, какое счастье, что здесь темно! Мне это так нравится, что я не могу удержаться от слез...
Спектакль был откровением: простая жизнь с ее знакомыми подробностями смело шагнула на оперную сцену, художественная правда наконец заговорила там, где привычны были мишура, красивая ложь и порой грубоватые театральные эффекты. И музыка и исполнение были проникнуты задушевностью и какой-то особенной, неповторимой юностью.
В антракте обступили Чайковского с поздравлениями старые приятели, студенты, профессора. Налицо была вся консерватория. В толпе критиков слышался взволнованный голос Лароша:
- Важны не частности, господа, важно главное. Татьяна - сама искренность. И сколько теплоты дала в ней Климентова! Надо отметить это, а не кричать о неопытности. Опыт придет.
Толпа вокруг Чайковского расступилась, пропуская Николая Григорьевича Рубинштейна. Он волновался не меньше Лароша и заговорил, как только подошел:
- Ну, Петр Ильич, дорогой мой, одно хочется тебе сказать: в твою оперу я влюблен.
Подошел Апухтин.
- Вот что, Чайка, - с трудом вымолвил он, и особенно тепло прозвучало для Чайковского это школьное прозвище, - если бы Пушкин мог слышать, он бы не пожелал ничего лучшего для образа своей Татьяны.
К композитору пробирается побледневший Танеев. Он протягивает руки к бывшему учителю и вдруг бросается ему на шею. От волнения он не может говорить. И это бурное проявление чувств особенно трогательно у сдержанного Танеева.
Ал. Алтаев. Чайковский. М., Детгиз, 1956, стр. 360-363,- 392-393.
|
ПОИСК:
|
© XIX-VEK.RU 2007-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://xix-vek.ru/ 'История России XIX века - письменные, статистические и графические источники'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://xix-vek.ru/ 'История России XIX века - письменные, статистические и графические источники'